Г.Померанц. Зримая святость (Тарковский).
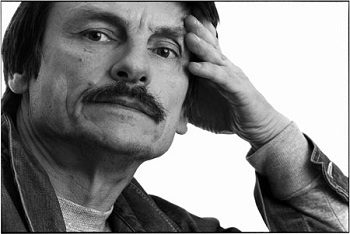
В список теоретических статей о кинотерапии
Один из способов лечить последствия психических травм – это извлечь из глубин подсознания космическое чувство, «все во мне, и я во всем», или другой светлый архетип – смерти-воскресения. Обида, боль страх тонут в бесконечности света, дева-обида отступает перед девой, смывающей обиды. Наше общество достаточно похоже на пациента психиатра. «Накопилось так много злости, взаимных претензий, попреков, так ожесточились нравы, — пишет Гранин, — что людям трудно перейти в другое состояние, обратить свои физические и духовные силы на помощь ближнему. Призыв к милосердию не желают принимать, не желают откликаться – до того погружены в свою злость, в сведение счетов, в какие-то проблемы возмездия, в кипения и борьбу страстей, которые тоже приводят к ожесточению души..» («Литературная газета», 1989, 5 апреля).
Память обид и жажда возмездия лежат в основе целых общественных движений. Психиатры говорят в таких случаях о садомазохистском комплексе. Но начинается с обыкновенного полемического ожесточения. Этот феномен я анализировал еще лет двадцать назад: «Дьявол начинается с пены на губах ангела, вступившего в бой за святое и правое дело… Все, что из плоти, рассыпается в прах – и люди, и системы. Но вечен дух ненависти в борьбе за правое дело». И Георгий Победоносец еще и еще раз превращается в нового змея, в дракона-победоносца. Одно и то же безумие стадной ненависти, начавшееся в 1914 г. во имя защиты славянства от хищного германского империализма, продолжалось во имя мировой революции, безопасности от врагов народа, от убийц в белых халатах. То, что их не казнили, не давало людям спать. Привычки ненависти отравили этику, педагогику, отравили искусство – то есть все лекарства, которые можно дать больному обществу. Сплошь и рядом сама совесть, сама духовность извращены, и приходится выбирать между честной бездуховностью и извращенной духовностью, и извращенная духовность оказывается завлекательнее. Есть такие выверты и в кино. Но в том, что я смотрел, сильнее чувствуется желание вырваться из порочного круга ненависти.
Кино стало символом бешеных темпов XX века, не дающих оглянуться. Но есть другое кино, которое останавливает нас и возвращает к той медленности, с которой разгорается заря и человек всматривается в своего собеседника и открывает внимание (почти потерянную в наши дни добродетель). И тогда начинается перекличка с поэзией, остановившей лирический миг. Андрей Тарковский вспоминал стихи своего отца. Я вспомню Рильке, из Сонетов к Орфею, перевод Зинаиды Миркиной.
Мы так давно обогнали медлящих проводников в вечность!
И ее же собственное стихотворение «Когда б мы досмотрели до концы…».
Это все присказка, а сказка – мой опыт ретроспективы здешних фильмов Тарковского. Заранее прошу извинения за незавершенность и субъективность.
С самого начала Тарковский охвачен ужасом перед войной за справедливость, перед добром с кулаками. Это было уже в «Ивановом детстве», в восприятии войны глазами ребенка. И с «Андрея Рублева» начинаются поиски выхода из жестокости. Выхода – в созерцании красоты мира и в тяготении к святости, в обращении к святому, который как-то смог то, что мы не можем, — остановить ненависть, сказать (всем собой и своим творчеством): прости им, Господи, ибо не ведают, что творят. И нельзя было выбрать лучшего примера, чем Андрей Рублев, потому что никто в России не сумел сделать святость такой зримой.
Выше этого в нашей культуре ничего нет. В Троице Рублева средний ангел – сама совершенная тишина созерцания, где живет отрешенная любовь, открытая всем и не замкнутая ни на ком. Если искать простой пример ее, то к этому близок Мышкин до встречи с Настасьей Филипповной. Левый ангел загорается святой страстью, желанием спасти (и обличить зло). Это как бы Мышкин, пораженный Настасьей Филипповной, это пушкинский Пророк. Отрешенность остается в нем, как внутренний стержень; но деятельная любовь обращена к цели, а цель всегда названная, изреченная, частная и отрывает от неизреченного, от целого. Истощаясь в действии, любовь возвращается к своему источнику, припадает к нему (в правом ангеле) и замыкает круг. Это не просто сюжет, канон, завещанный Византией. Это внутренний опыт, который можно пережить, долго созерцая Троицу и беря ее внутрь, как три состояния собственной души. Это несомненно пережил Андрей Рублев, иначе вышла бы не подлинная Троица, а слабая копия. Это, по-видимому, смутно предчувствовал Андрей Тарковский, взявшись за свою картину. Но в кадре этого нет. Есть беспомощный молодой художник, в ужасе от жестокости своего века жаждущий гармонии, и потом, вдруг, непонятно откуда – репродукция «Троицы».
На фильм Тарковского нападали почвенники, шокированные картиной русской истории, казавшейся им сгущением мрака, почти карикатурой. Меня бранили за то же, написанное в те же годы – только не в официальной прессе, потому что до официального уровня я не поднимался, но в самиздате и тамиздате. Поэтому как раз то, за что Тарковского ругали, мне близко. Я удивлялся примерно тому же, что удивило его: как складывались вместе в единой национальной истории иконы Рублева, фрески Дионисия с Иваном Грозным и Малютой Скуратовым. Такие деспоты, такие палачи – и такое духовное искусство, не имевшее равного на Западе! Я не утверждаю, что к русской истории нельзя подойти иначе, но мне кажется плодотворным исследование ее под образом волошинского «Северовостока»:
Что менялось? Знаки и возглавья?
Тот же ураган на всех путях.
В комиссарах дух самодержавья,
Взрывы революции в царях.
Модель русской истории не должна смешиваться с самой историей. История в целом не укладывается ни в какой человеческий ум, и нельзя считать недостатком, что модель или образ истории что-то сгущает. Иначе вообще не было бы ни научной модели, ни художественного образа. Всякое понимание бесконечно сложного есть сгущение чего-то. «Северовосток» Волошина, «Размах» Даниила Андреева, фильм «Андрей Рублев» сгущают противоречивость и жестокость русской истории. Можно было сгустить благостность русской монастырской или сельской жизни. Это, скорее всего, больше понравилось бы рецензентам. Но суровое исследование обращено к сильным духом. Оно не утешает, а настораживает – и обращает внимание на наши собственные нерешенные задачи. Критика фильма часто перекликается с бондаревским сопротивлением натиску фактов, с нежеланием миллионов обывателей читать о беспокойном, о тревожном.
Я на многих домашних обсуждениях отстаивал другое: что Андрей Рублев только назван, что автора «Троицы» в фильме нет. Вдумайтесь, зачем в конце нужна была новелла «Колокол»? Для развития характера главного героя она ничего не дает. Логика образа преподобного Андрея требовала перехода от молчания (т.е. умного безмолвия) к вспышке внутреннего света, как Мотовилов видел ее у Серафима Саровского. Тогда раскрылся бы источник рублевских ликов. Но пережить это Андрею Тарковскому не было дано. А он лирик не меньше, чем Арсений Тарковский, и в каждом фильмедолжен с кем-то слиться, отождествить себя. И вот он, наконец, оставляет Андрея Рублева и создает другой образ, создает самого себя, каким он был бы на рубеже XIV и XV вв. Это строитель колокола. Молодой режиссер именно в его положении. Он не знает дедовского секрета и пытается заново его открыть; и что-то действительно открывает. Лучшие новеллы фильма – последние три: Набег, Молчание, Колокол. До этого мне мешал заглавный герой, мешал Феофан Грек (Н. Сергеев), не к месту казались русалии, а конец фильма оставил стройное, сильное впечатление. Я не считаю ошибкой задачу фильма – создать образ художника-святого. Наоборот, дерзость Андрея Тарковского была историческим событием в нашей культуре. Нам действительно нужно святое искусство, «вестничество», как говорил Даниил Андреев. Без него национальное возрождение вряд ли свершится. Но в фильме задача только поставлена.
То духовное парение, которое есть в «Троице» и «Спасе», никому в последние века не давалось. Даже Пушкину и Достоевскому – только мгновениями. Самые светлые гении русской литературы живут ниже Рублевского круга и лишь иногда прикасаются к нему. Стержень отрешенности ими утрачен, страсти ведут к помрачению, к опустошенности, и круг замыкается через жгучее недовольство собой и покаянные слезы. Это второй великий круг русской литературы, круг романа XIX века. Мне кажется, что Тарковский после безумно смелой попытки направить объектив прямо на небо понял, что небо не так легко дается и дело не только во внешнем, в жестоком веке, а в собственной жестокости, в собственных предательствах, в собственных злоупотреблениях свободой.
Фантастический сюжет «Соляриса» дает Тарковскому толчок к известной в русской литературе теме преступлениях и покаяния. Солярис ведет себя как психоделик. Он обнажает грехи космонавтов, предательство любви, убийство любви, скрытое под покровом мнимой забывчивости. Видения, с которыми сталкиваются герои, — это клинический реализм. Это первый слой подсознания, высветившийся при движении в глубину. Могут материализоваться и другие слои, еще более неожиданные. Некая Рената, пациентка чешско-американского врача Графа, почувствовала себя на одном из сеансов самкой допотопного ящера, греющейся на песке у речки. Внезапно появился самец, у которого вздыбились складки на шее, и Рената испытала сильное возбуждение. Доктору Графу стоило трудов выяснить, что у самцов некоторых гадов во время брачных игр действительно топорщатся складки на загривке. Рената этого не знала. Гады жили в ее трансперсональном подсознании. Они дремлют в каждом из нас – и сквозь этот слой приходится пробиваться, если не удалось пройти не оглядываясь. Это «тело смерти», как говорил апостол Павел, наш ветхий Адам, наша причастность к первородному греху, наша карма. И нельзя достичь свободы в духе, не ограничив свободы своих гадов.
Модель авторского сознания в фильме «Андрей Рублев» — это творческая свобода без берегов, свобода на всех уровнях, увенчанная святостью. Но так не бывает. От русалий нет прямого пути к Спасу. Только через аскезу. Свобода высшего – это узда для того, что ниже. Простор духа открывается только в иерархическом строе души. Интеллигенту, прошедшему через искус ставрогинской свободы, признание иерархии, необходимость иерархии дается с трудом. Но именно путь интеллигента, со всеми его ошибками и промахами, — то, что привлекает к фильмам Тарковского.
Я встречал своего Ивана Денисовича (его звали Василием Ивановичем Коршуновым) и, пожалуй, свою Матрену, кубанскую казачку с образованием в два класса и с природным достоинством королевы. Но я не вижу, почему надо именно в них искать спасение, а не в подвижнической общественной жизни таких людей, как Великанова, Григоренко, Сахаров, в творческой жизни Смирнова-Русецкого и Черноволенко, Вейсберга и Казьмина, Шнитке и Губайдуллиной. С некоторыми из них я был знаком и испытал их обаяние. Оно никак не меньше, чем у Василия Ивановича Коршунова, которого, впрочем, я запомнил на всю жизнь: всякий добрый человек в бараке – сокровище. Мне кажется, что иконного мужика творят писатели ради собственного утверждения в споре с другими писателями; но образованный человек, достигший нравственной цельности, — законный герой нашей очень сложной цивилизации, которую никак нельзя упростить и свести к уровню «Привычного дела».
Поэтому проблемы, которые ставит Тарковский, — это центральные проблемы нашего времени и нашей страны. Даже если действие происходит в космической станции, вертящейся вокруг Соляриса. И в этой беспочвенной и безвоздушной обстановке Тарковский превосходно высказал свою оторванность от Единого и чувство беспомощности перед «зверями своей души» (выражение Рильке в «Импровизации на темы Каприйской зимы»).
В «Зеркале» встретились три темы: одна, продолжающая «Иваново детсво» и фильм «Андрей Рублев», — тема извечной страды русской истории; другая – тема покаяния, начатая «Солярисом»; и третья, связанная с работой оператора, — вглядывание в красоту нашей старой земли, напряженное вглядывание в тайну, которую мы видим каждый день и не можем постичь. Повороты объектива к траве, склоняющейся под ветром, заставляют вспомнить Тютчева:
Откуда, как разлад возник?
И отчего же в общем хоре
Душа не то поет, что море,
И ропщет мыслящий тростник?
Почти все в фильме прекрасно. Особенно женщины. Особенно Терехова. И природа. Очень глубоко запоминается бесконечный марш армии по размытой дороге. Но есть одна ложка дегтя, которая отравила мне впечатление. Стерев дистанцию между собой и героем, автор оказался в плену жалости к самому себе. Пропала суровость, необходимая в покаянии, суровость «Записок из подполья» и «Воскресения». Герой кается в своей неспособности любить и тут же жалеет себя за это. Жалость к себе на пути покаяния – та капля твари, которая (по словам Мейстера Экхарта) вытесняет всего Бога. Если любви во мен нет, то я медь звенящая и кимвал бряцающий, и от всех моих даров нет мне никакой пользы.
«8 1/2» я смотрел после «Зеркала» и с меньшим интересом, чем «Зеркало». «Зеркало» показалось мне духовно значительнее, ближе к напряженности прозы Достоевского, и у Феллини как раз этой напряженности мне не хватило. Не хватило беспощадности к себе. И в самом главном, в выполнении духовной и нравственной задачи искусства, я считаю «Зеркало» шагом назад сравнительно с «Солярисом».
«Сталкер» эстетически менее совершенен, чем «Зеркало». В «Зеркале» почти все хорошо, кроме одного (для меня очень важного). В «Сталкере» можно насчитать больше недостатком. Но в самом главном сделан огромный шаг вперед. Здесь Тарковскому впервые (и едва ли не впервые во всем русском кино) удалось то, что совершенно не удалось в «Рублеве», — показать исток религии, юродивого непонятно какой веры, юродивого нашего неоформленного тяготения к духовности. Где-то не очень далеко от него созерцатели, разбросанные в разных фильмах разных режиссеров, — но сталкера от них отличает какая-то особая, напряженно неловкая духовность птицы, у которой еще не раскрылись крылья. Не раскрылись, но топорщатся за спиной.
Так получается, что в фильмах, формально говоря, научно-фантастических, без внешних примет религии Тарковский ближе всего подошел к мистическому чувству внутреннего света, из которого вырастают все религии, но которое не есть оформленная религия – не есть обряд, догма, миф, икона, а только прорыв. То, что выразил известный американский поэт Стивенс: «Мы веруем без верований, по ту сторону верований».
Каждое поколение заново открывает эту веру без респектабельных форм веры, веру ощупью, с трудом раскрывающую глаза. Как-то я спросил Владимира Вейсберга, почему у женщин, которых он рисует, закрыты глаза. Вейсберг ответил: «Глаз я еще не вижу». Я подумал: если бы они раскрылись – это были бы глаза икон. Но художник не может рисовать того, что он не увидел. И тип юродивого, которого увидел Тарковский, — это духовная вершина его здешнего периода и одна из вечных ступеней духовного опыта, которую заново открывает каждое новое поколение – по крайней мере в России.
Я хотел бы кончить несколькими строками из неопубликованной повести Александры Созоновой, начавшей жить лет на 20 позже Андрея Арсеньевича: «… реанимация совести. Для реализации ее нужны были бы несколько свято сумасшедших людей. Немножко припадочных. Немножко актеров. Способных поговорить с человеком на таком накале убеждения, веры и боли, чтобы всколыхнуть его до самых глубин, до самых заветных, подспудных, может быть, еле теплящихся источников мужества и добра…».
Эти слова хорошо подходят к фильмам Тарковского.
1989