Константин Хабенский: Мы боимся совсем не того, что оказывается действительно страшным.

– Восемь лет назад вы ввязались в довольно неожиданную историю: мастерские творческого развития для детей и подростков по всей стране. В итоге вышел подростковый мюзикл «Поколение Маугли», который должны были, в том числе, играть на сцене МХТ им. Чехова. Но недавно я узнала, что проект кончился. Что случилось и почему?
– Тут надо рассказывать все с самого начала.
– Все сложные истории надо рассказывать с самого начала.
– В середине двухтысячных я как-то почти случайно оказался в питерском Доме ветеранов сцены.
– Это – очень красивое, старинное, полное поразительных людей место.
– Да, так это выглядит сейчас. Я там недавно был на съемках «Троцкого» – все совсем не так, как было в первый мой приезд. И дело даже не в ремонте: когда я впервые туда пришел, меня потрясла атмосфера, понимаете?
– Думаю, да: несколько десятков невероятных пожилых людей с потрясающими биографиями, которые оказались на обочине жизни. Так?
– Был еще один важный нюанс: эти люди совершенно не готовы были списывать себя в запас. И мы, те, кто пришел тогда вот в это место обитания возрастных актеров, – нас привел [режиссер] Дима Месхиев – впали в какой-то ступор, что ли.
Вначале попытались привычно и не очень энергозатратно решить проблему деньгами: что будем скидываться, что отдадим, например, все денежные призы, связанные с фильмом «Свои» [в котором тогда снимались у Месхиева], включая призовой фонд «Ники»… Оказалось, что сделать это официально очень сложно технически: привычными конвертиками – проще. Но что такое конвертик для человека, который мучается одиночеством и невостребованностью больше, чем неустроенностью и скромным образом жизни?

– В чем-то даже оскорбительно.
– Никто из них не заслуживает такого положения… когда их содержат, понимаете? В какой-то момент я понял, что единственное по-настоящему полезное, что я могу для них сделать – вовлечь в нормальное достойное дело. Черт, вы знаете, я сейчас стал все это рассказывать и обнаружил, что давно об этой истории ни с кем не говорил.
– Почему?
– Не спрашивают. Не интересно, наверное.
– Интересно. Что было дальше?
– Одновременно с тем, что я понял, что возрастным артистам, в первую очередь, нужны не деньги, а дело, до меня каким-то образом стал доходить масштаб неприкаянности творческих ребят по всей стране: куче детей, который бредят так или иначе сценой, некуда податься, нет никакой возможности себя проверить, испытать.
И появилась идея эти две истории соединить: артисты получили бы занятость, а дети – крутых учителей. В разных городах все технически выглядело по-разному, но в основном принцип был такой, что на базе домов творчества, при театрах – чтобы аренду не платить – открываются студии, где маститые артисты преподают детям наши профессиональные дисциплины: актерскую фантазию, речь, сцендвижение.
И вот так постепенно мужчины и женщины, которые отдали театру, по сути, всю свою жизнь, чья биография в творческом плане отнюдь не исчерпала себя, почувствовали себя снова нужными. Знаете, что было поразительным для меня лично? Преподавать детям захотели не только возрастные актеры в провинции. Очень для многих моих коллег более молодых это стало очень важной историей.
– Это про востребованность?
– Давайте честно: возможности для самореализации не у всех одинаково большие. И деньги, кстати, тоже важны. Преподавание в студиях стало помощью для моих коллег, которым в регионах живется не сладко. А для детей обучение было совершенно бесплатным.
– Как это получалось?
– Ну, в итоге это стало социальной историей: конверты превратились в официальную зарплату, которую сперва мы с друзьями-товарищами платили вскладчину, а потом все вышло на официальный уровень – платили городские бюджеты или какие-то местные уже филантропы. Начав с двух городов – Казань и Екатеринбург – в итоге мы создали 11 творческих мастерских по всей стране, в каждой – от 150 до 300 детей.
– Слушайте, но это же выходит – самая крупная не военно-патриотическая и не спортивная детская организация страны со времен Советского Союза?
– Я об этом так не думал. Мне было важно другое. Студии стали ситом, которое дало понимание юношам и девушкам, что такое профессия актера, и вообще что значит заниматься творчеством.

– То есть что-то кроме оваций и букетов?
– Грезы об овациях сменил ежедневный труд, слезы, нервы, радость принадлежности делу, – все, что эту профессию действительно составляет. Слава Богу, это понимание ко многим из них пришло раньше, чем они пошли поступать в театральные вузы.
– Кто-то даже до театрального вуза дошел?
– Кто-то дошел, а с кем-то, как с нашим новосибирским одним студийцем, я даже встречаюсь на съемочной площадке: он играет в финале «Собибора» бегущего мальчика, помните? Вот он – остался. А кто-то все понял и ушел. И для меня это тоже – важная история: мы человека уберегли от опасности испортить себе жизнь, занимаясь не своим делом. Даже если одного уберегли, все равно стоило затеваться.
– Итогом творческих мастерских – в провинции их называли театральными школами Константина Хабенского – стал всероссийский спектакль «Поколение Маугли». Кто выбирал тему?
– Я.
– Вам нравится история про Маугли?
– Кто из нас не был любителем Киплинга в детстве? А мультфильм «Маугли» с такой таинственной и тревожной музыкой – он же затягивал, цеплял и не отпускал. И еще, мне кажется, это – очень добрая история.
– История о том, как ребенка лишили мамы и папы, а теперь его воспитывают звери, вам правда кажется доброй?
– Я в детстве все время слушал пластинку про Маугли, потом – смотрел мультфильм. У меня не было такого, как у вас, обостренного чувства реальности: дескать, звери воспитывают! Вы меня озадачили. Мне все происходящее в «Маугли» казалось совершенно естественным, нормальным и добрым. В отличие, например, от «Малыша и Карлсона» – вот тут страдания ребенка, который доверился старому не очень порядочному человеку, я вполне разделял.
– Но для «дипломного» спектакля студийцев вы выбрали именно «Маугли».
– Там была задача: показать получасовую заявку, в которой были бы все пройденные за год элементы. Было много вариантов, но звезды сошлись на Киплинге. Мы с товарищами сели и стали придумывать. Вышла история про приключения мальчика, который ищет свою правду в каменных джунглях мегаполиса. Мы придумали диалоги и ужали время действия до суток: утро – это весна, день – лето, вечер – осень, зима – это ночь. Дальше мы фантазировали уже со студийцами. Первый город, который попал под раздачу – Казань. Собственно, там этот спектакль и родился: Алексей Кортнев придумал тексты песен, Николай Симонов, наш, мхатовский, художник – многофункциональные декорации. Все было по-взрослому.
– Был момент, когда этот проект занимал большую часть моего времени. После Казани были Уфа, Новосибирск, Питер, Челябинск – проект развивался, а к нему подключались удивительные и неожиданные участники. Например, Диана Арбенина или Александр Кержаков.
– Я видела Кержакова в роли Удава Каа. Прямо скажем, неожиданное камео.
– Ребята вначале боялись, а потом сами ловили кайф и требовали, чтобы их привлекали к каким-то спектаклям за пределами Москвы, на гастролях. В спектакле было занято огромное количество звезд: и Юра Гальцев, и Катя Гусева, и Родригес, кого там только не было. А потом «Поколение Маугли» – стало чем-то большим, чем спектакль.
– В каком смысле?
– Это произошло в тот момент, когда мы решили, что все средства от сборов должны пойти в помощь ровесникам артистов, занятых в «Поколении Маугли».
– Это вы придумали?
– Это придумалось неожиданно. Но я понимал, что студийцы прекрасно знают, чем я занимаюсь.
– Откуда?
– Странный вопрос. Они читают интервью, смотрят репортажи, они – нормальные люди с нормальным кругозором. И они прекрасно знают, что помимо профессии актера у меня есть фонд, в котором я занимаюсь помощью детям с онкологическими и другими тяжелыми заболеваниями головного мозга.
До какого-то момента творческие студии и больные дети никак не соединялись: ни в жизни, ни в моей голове. Хотя в Перми мы соприкасались с ребятами из детских домов, в Уфе – с детьми, у которых были нарушения двигательного аппарата, но все шло медленно. И я понимал, что такие встречи очень развивают в человеческом смысле, но психологически это непросто. Я это знаю, мне самому не очень комфортно приходить в больницы, там встречаться, общаться, видеть глаза родителей больных детей и настраивать их на позитив.

– Почему? Я раньше много времени проводила в больницах. И, мне кажется, отношения, которые там, внутри, – одни из самых честных на свете.
– Безусловно. Но, смотрите, я – актер, хочу я, не хочу выходить на площадку – мне нужно. Я выхожу и начинаю работать на зрителя. Верит он мне или нет – это другая история. В больнице – то же самое: я хочу или не хочу, я прихожу, переступаю порог отделения и начинаю разговаривать. Разница, очень важная притом, состоит в том, что в больнице – дети: прыгать и кривляться перед ними не надо. Надо поймать тональность: не жалеть, но, в то же время, обласкать. Дать надежду. Это – трудно.
По первости я не вылезал из больниц, и тогда я – вот как вы говорите – ни о чем таком не думал, просто занимался делом: объяснял родителям, где подписать, что подготовить, это – сюда положите, вот так переверните ребенка, эту бумажку – доктору, а эту – в фонд. Времени на рефлексии не было, да я особенно и не поднимал голову. Единственное, что меня иногда выводило из этого ритма – глаза родителей. Тех, чьи дети выздоравливали. На это я обращал внимание: «Ох, ничего себе! Бывает же такое!» И шел дальше.
Сейчас у меня – и это довольно закономерно – меньше времени посвящено непосредственно больнице: в фонде работает большая классная команда, я становлюсь менее нужен лично. Меня теперь используют, в основном, как лицо в тех проектах, когда без меня уже совсем никак не обойтись… В общем, в больницах я появляюсь редко. И находить общий язык с детьми – мне стало сложнее. С родителями – нормально, почти как раньше, но с ними проще. А с ребятами – там ежедневная практика нужна.
– Так как вы соединили «Поколение Маугли» с больными детьми?
– В какой-то момент стало абсолютной нормой, что на каждом спектакле, в каком бы городе мы ни играли, в конце на экран выводили фотографии ребят, которые лежат в больнице или сидят дома. И им нужна помощь. То есть мы совершенно точно понимали, для чего мы играем спектакли, куда пойдут деньги – вот этим детям.
Чтобы было предельно ясно, я перед каждым генеральным прогоном – для мам и пап, как мы его называем, – обязательно в каждом городе показывал студийцам клип Чулпашин [Хаматовой, создан для фонда «Подари жизнь» в 2014 году], который она сделала вместе с Шевчуком: «Это все, что останется после меня», знаете его?
– Да. Вы в нем тоже участвовали.
– Точно. Так вот, это был мой самый последний волшебный пинок: я показывал всей команде клип, а потом выходил и говорил: «То, насколько мы сможем помочь этим больным детям, зависит сегодня от того, как мы потратим себя на сцене. От того, какой будет ваша энергетика, желание и понимание того, для чего вся эта история рассказывается, будет зависеть, придет ли к нам зритель завтра и будет ли у нас возможность помогать. Если вы будете работать в полноги…»
– Дети разве умеют халтурить?
– Дети умеют все, глядя на взрослых, и быстро учатся. Но, кажется, наши дети поняли, в чем сверхсмысл их существования на сцене. Через «Поколение Маугли» прошли те, кто потом стал «маленькой армией благотворителей», как я это называю.
А потом случилось чудо. Во время наших гастролей в Москве за кулисы пришли те ребята, для которых всего полгода назад студийцы собирали деньги. Не помню, казанские или новосибирские это ребята, но они узнали их в лицо – это были те самые, с фотографий. И вот они пришли за кулисы сказать: «Спасибо».
– И что было?
– Я не стал никого заранее предупреждать и настраивать, подумал, пусть все будет как будет. Они вошли и… Ну, там по-разному. Кто-то рыдал, не мог прийти в себя, кто-то ржал совершенно неукротимо, кто-то целовался, а кто-то просто остолбенел.
– А вы?
– Я стоял в сторонке и наблюдал, как они со всем этим справляются, я ничего не корректировал. Я думал о том, как важно, что взрослые в кои-то веки их не обманули: взрослые им обещали, что деньги, собранные на спектаклях, пойдут на лечение этих детей, они бухнули туда все свои силы, отказываясь от каникул, от своих обычных занятий и развлечений, чем-то жертвовали. И вот – результат. Все закольцевалось.
Мне кажется, это важный опыт: помимо того, что это – абсолютно честная история, они еще поняли, что спектакль – это не только выпуск пара и какая-то экономически перспективная история. Это еще и возможность помочь другим людям. Это самое большое достижение, о каком я даже не мечтал, создавая подобные студии.
– За время проекта студийцы вообще сильно изменились?
– С ребятами на моих глазах вообще произошли довольно важные перемены: если в первый год моего или моих друзей появления в их жизни им были нужны фотографии и автографы, то на второй и третий стали важны ответы на вопросы. Они перестали селфиться с приезжающими известными людьми – а в студии приезжали почти все, кого вы сможете вспомнить из наших знаменитостей – они стали их спрашивать о том, что те думают на чувствительные и волнительные темы.
Так я увидел их взросление: они превратились в профессионалов третьего-четвертого курса театрального вуза, будучи вообще-то школьниками девятого, максимум одиннадцатого класса. До меня дошло, что я больше не имею права делать им профессиональные замечания, потому что они вышли на уровень более высокий, чем мы с ними договаривались. Не все из них были готовы посвятить свою жизнь этой профессии, но они научились говорить, что думают, выражать свои чувства – это условие договора я выполнил. И понял, что пришло время расставаться.
– То есть как – расставаться?
– Отпустить их в большую и взрослую жизнь. Уже без меня.
– Но это же – больно.
– Я понял, что так будет, примерно за год до того, как сказал им об этом.
– Что вы сказали?
– Я сказал: «Ребята, вы, в принципе, все умеете, вы передружились. У вас педагоги, которые тоже научились вместе с вами за наш семилетний путь. Они знают, с чего начинать, куда идти. У каждой студии – свой почерк, все вы – достигли уровня, когда я как художественный руководитель вам больше не нужен».
– А они?
– Ну, там сразу – слезы, сопли, ах-ах-ах. Вначале трудно было. Сейчас уже прошел год. Все потихонечку взяли себя в руки, и пришло осмысление: все было сделано правильно. Они пошли своей дорогой: где-то города объединились, где-то студии стали молодежными театрами, кто-то остался на уровне мастерской.
– Но вы их, выходит, бросили?
– Я не буду сейчас препарировать свои чувства и воспоминания. Я не то чтобы сжег этот дом безвозвратно. Я понимаю, что ребята терзались, у них были сомнения, они не понимали, почему я так поступаю. Перед расставанием я написал письмо каждому студийцу: «Я вам помогу во всем, чем смогу, но мое наставничество кончилось». Так вот, это слово я намерен держать. Но семь лет – это правильный срок для того, чтобы перейти на новый уровень отношений.
– А какие были опасности?
– Разные. Я не люблю, когда начинают сажать на трон и петь хвалу, я бегу таких вещей. Слава Богу, до этого не дошло, в Ленина меня не превратили.

– «Поколение Маугли» должны были играть на сцене МХТ имени Чехова. Почему этого не произошло?
– Я понимал, что «Поколению Маугли» как самостоятельному проекту хорошо было бы в итоге дать надежную гавань. Я понимал, что мог бы быть и режиссером, и продюсером этого нового витка. И я пришел к Олегу Палычу [Табакову, художественному руководителю и директору МХТ им. А.П. Чехова в 2000–2018 гг.] и предложил ему и театру этот спектакль. Разумеется, я объяснил, что эта история должна быть благотворительной. Но в тот момент у Олега Палыча были другие мысли по поводу производства, театра и того, какие и в каком объеме деньги театр должен приносить. С благотворительностью это никак не вязалось, к сожалению. Но я продолжал ходить и напоминать о себе. Ходил два года. А потом что-то изменилось.
– Что?
– Не знаю, но, видимо, в жизни Олега Палыча что-то такое произошло, что изменило его мнение. На последнем сборе труппы он объявил о том, что я буду делать спектакль «Поколение Маугли» здесь, в МХТ. Я сказал: «Олег Палыч, у вас есть прекрасный колледж, в котором учатся дети, ровесники моих студийцев. И «Поколение Маугли» – это спектакль, который сможет их объединить». Я придумал программу обученческую для всех курсов колледжа, при которой каждый год у студента будет происходить смена рисунка и смена типажа: то есть первый курс приходит и начинает готовить программу второго курса спектакля, второй – работает над программой третьего и так далее.
Олег Палыч дал добро, мы стали репетировать со студентами и фактически перепридумали спектакль: в колледже ведь уже такие огромные лоси учатся, а я начинал «Поколение» с маленькими шпендиками-студийцами. В общем, начали вводить в новую историю любовные линии, приплетать высказывания рокеров, рэперов и даже политиков, которые, кстати, очень хорошо ложились на язык Шерхана и Акелы. Леша Кортнев добавил в спектакль песни, чему был совершенно счастлив, поскольку переживал, что не все его идеи вошли в первый вариант. В общем, мы сделали нечто совсем новое. На первый прогон в театре, куда обычно приходит человек десять, пришел полный зал. Спектакль случился, это была очень убедительная история.
– По сути, это был уже новый спектакль, в котором были заняты студенты колледжа Табакова, преподаватели этого колледжа и артисты МХТ имени Чехова?
– Да.
– Вы собирались играть «Поколение Маугли» на сцене МХТ, имея в виду, что все сборы будут идти в помощь детям-подопечным вашего фонда?
– Да, мы придумывали это так.
– Но спектакль так и не появился в афише театра. Почему?
– Олег Палыч умер, пришли новые руководители театра, появились другие замыслы и планы на жизнь, которые никак не сходились с планами «Поколения Маугли». Набор в колледж в этом году не случился. Мне пришлось принять решение перестать тратить свое и чужое время. И я закрыл эту историю: мы собрали все декорации, сложили в ангар. Детям я все объяснил, сказал «спасибо». Мне кажется, и им была полезна эта история, и мне было полезно пофантазировать, подумать и понять, что нет предела совершенству.
– То есть все?
– Все. Сейчас Челябинская студия выступила с инициативой сделать спектакль в прежнем формате, но я сказал, что мне это больше не интересно.
– В ситуации ощутимого дефицита качественного контента для детей и подростков «Поколение Маугли» разве не имело шансов на успех?
– Мне кажется, имело все шансы. Но у нас вообще сейчас мало смельчаков, которые готовы вкладывать деньги, понимая, что подростковое, детское кино может быть провальным и неокупаемым, но оно очень нужно. Никого не могу обвинять, но хорошо бы поскорее у нас появились яркие режиссеры, умеющие рассказывать даже не про детские проблемы, а про то, что волнует 14-, 15-, 16-летних ребят, которых колбасит от того, что они не понимают, для чего им жизнь, что им жизнь и что они в этой жизни.

– Нелепо кивать в сторону СССР, но детских и подростковых фильмов, сказок, записанных в те годы, хватило на ваше поколение и еще на три вперед. Тот же Табаков сыграл гениального Али-Бабу в аудиосказке Вениамина Смехова…
– Пластинка «Али-Баба и сорок разбойников», как и многие другие пластинки, на которых мы были воспитаны, нравится нам по инерции. Иногда мы продолжаем воспитывать на этих пластинках своих детей. Это нормально: мы хотим своим детством поделиться. Но я бы не преувеличивал количество и качество того, что выходило в СССР. Бывали хорошие годы, хорошие фильмы и спектакли, хорошее исполнение.
Бывало и другое, мы просто не помним. Сейчас на самом деле всего самого разного для детей – сколько хочешь: и «Смешарики», и «Малышарики», и «Лунтик», и «Маша и медведь». Да, это поставлено на поток и требует гораздо больших затрат, чем требовалось в советские времена…

– Я про другое: вот Табаков играл в детской сказке, и не одной, озвучивал персонажей в мультфильме и так далее. А вы?
– А я «Малышариков» озвучиваю.
– Да вы что?
– Ну, всех «Малышариков» озвучивать у меня не хватает времени, но я – папа «Малышариков». Я песни там пою, и мне это очень нравится. Вы, наверное, просто плохо знакомы с «Малышариками», потому что «Смешарики» их забили и они почти не видны. Но, если коротко, «Малышарики» – это те же «Смешарики», только у них проблемы поменьше: это проблемы полуторагодовалых детей.
– Что вы смотрите с дочкой?
– Вот как раз «Малышариков».
– А не из вашего творчества?
– Она много чего смотрит: нашего, не нашего, советского, современного.
– Вы с ней вместе смотрите?
– Я знаю, что именно она смотрит. Но когда она это смотрит, я не знаю.
– Вы – хороший отец?
– Я могу быть намного лучше. Но я стараюсь.
– В каком смысле?
– По мере понимания того, что я значу для детей, что они для меня значат, стараюсь исправить недоработки.
– Например?
– Пытаюсь научиться формировать так график, чтобы в нем была не только работа.
– Чем бы вы хотели запомниться своим детям?
– Я против каких-то нарочитых вещей. Но я стараюсь многое делать в своей профессии так, чтобы им было интересно, чтобы они или участвовали, или смотрели… Нет, Катя, вы как-то неправильно спросили: запомниться. Это какая-то навязчивая вещь. Я не хочу никак запоминаться, я хочу, чтобы в какой-то момент они – все ли, не все ли – подошли и сказали: «Ты молодец, пап!» Мне этого достаточно. Я хочу верить, что смогу понять, что прячется за этими двумя словами: «ты» и «молодец».
Надеюсь, я к этому моменту не рухну совершенно башкой и не превращусь в какого-нибудь оскароносного, недоступного и ни хрена не понимающего творца, который будет объяснять всем, как надо жить, только потому что у него все эти многочисленные награды и еще он где-то там снялся. Вот этот образ – поучающего безумца – самое страшное, наверное, что может случиться. А это сплошь и рядом происходит.
– На свете много людей, с кем ничего такого не случилось.
– Значит, еще просто не время. Или Бог их так любит, что говорит: «Ну, давайте еще потянем немножко. Мне так нравится этот парень или эта девчонка, хочу еще немножко послушать, как он смеется. А потом сделаем то же, что делаем обычно с остальными».
Люди рядом могли бы, конечно, тебе своевременно сказать: «Пора завязывать, помолчи, старик, уйди в тень». Но ты их не попросил об этом, когда был в себе. Вот они и молчат. И молча смотрят, как ты сидишь и раздаешь всем вокруг непрошеные советы.
Про это очень правильно написано в «Этике» Станиславского, хорошая, кстати, брошюра, всего несколько страниц. Ее преподают, но никто, к сожалению, не читает. Константин Сергеевич рекомендовал прежде, чем раздавать советы, спросить, нужен ли такой совет, и только потом – предложить помощь. Еще он учил никогда не поучать людей, как жить: в сценическом ли пространстве, в профессиональном пространстве, в житейском. Вот если этой просто личной гигиены придерживаться, то, быть может, протянешь в сознании дольше и сойдешь с помоста нормальным человеком.
– Помогли ли самому Станиславскому его этические правила?
– Вопрос спорный. Судя по тому, что описывал в «Театральном романе» Михаил Афанасьевич Булгаков, – не очень. Текст у Булгакова, разумеется, художественный, многое он там изложил, не выпячивая, а сводя к шутке или мистике, но МХАТ и вся ситуация в театре описана достоверно. Не только, может быть, МХАТ, но вообще любой механизм, который называется «русский театр» и движется по вполне предсказуемой дуге: от бойкого зародыша до полного фонтана сумасшествия. Иногда бывает, фонтан еще не бьет, все выглядит снаружи очень прилично, но ты знаешь, как это устроено, и точно можешь сказать: еще чуть-чуть и все вскроется. «Театральный роман» вылезет и здесь.
– Если следовать так называемой «мхатовской» традиции, то руководить театром после смерти Табакова должен был бы человек из актерского цеха, из труппы театра. Так было всегда. У вас были амбиции стать худруком МХТ?
– Нет. Я не горю большим желанием чем-то или кем-то руководить. Я иногда возгораюсь желанием что-то с кем-то сделать, но административных амбиций у меня нет и мысли типа «ах, надо взять театр», – не было. Кроме того, я не являюсь официальным учеником Олега Палыча.
– Да, вы учились у Фильштинского, в Питере. Но в МХТ все же провели много времени.
– Вы правы, я учился у Олега Палыча на протяжении всех этих лет. Всем мелочам: и жизненным, и профессиональным. Многое мне казалось правильным, многое было важным. Но здесь, в стенах этого театра, есть более заслуженные для подхвата знамени ученики и артисты.
– Какую часть вашего времени занимает фонд?
– Гораздо меньше, чем раньше. Это все еще огромная часть меня, но я фонду уже не так нужен, как вначале, он – самостоятельный механизм, не так сильно на мне завязанный. Это как с фильмом, в котором ты снялся: съемки вроде закончены, но он всегда с тобой внутри и живет своей жизнью.
– Однако, создавая фонд, вы дали ему ни много ни мало – свое имя. Он так и называется: «Фонд Константина Хабенского».
– Это не было моей специальной наглостью.
– Речь не о наглости, о риске скорее.
– Да понятно же, что сразу возникает подозрение: ага, он решил своим именем фонд назвать, чтобы в мрамор войти таким образом. Нет.
– А почему?
– Если честно, когда подошел момент регистрации, я не успел придумать название, не до того было, скажем так. И я решил ничего не придумывать, назвать как есть. Как оно, по сути, на тот момент и было: я всем занимался сам, напрямую.
– Вы начали помогать детям, страдающим раком головного мозга, вместе с Настей [Анастасией Федосеевой (31.03.1975 – 1.12.2008), первой женой] во время ее болезни [в 2007 году у Федосеевой была диагностирована опухоль головного мозга]?
– Да. Это началось спонтанно, но действия наши, мои были совершенно сознательными. Я в какой-то момент понял, что надо помочь ей отвлечься от собственной болезни. Нам нужно было максимально отвлечься от себя.
– Чтобы не сойти с ума?
– Чтобы отвлечься. Чтобы быть занятыми делом. Это помогает. Иногда. Я тогда предложил поучаствовать в помощи другим людям, – речь о детях в основном, – которые находились в той же ситуации, что и мы. В тот момент мы что-то уже знали, чем-то могли помочь: врачи, маршруты, больницы.
– Почему вы решили помогать именно детям?
– Не знаю. Это случайно получилось. Я плохо помню события того времени и не всегда могу восстановить некоторые детали: я мотался между континентами, приезжал в больницу, мы что-то обсуждали, я уезжал, летел и уже в Москве с кем-то встречался, брал и передавал какие-то деньги, разговаривал с мамами, помогал искать врачей, опять летел через океан, рассказывал, как и что, что сдвинулось, получилось. Я думал, что это поможет переключиться, поможет отвлечься.
– Помогало?
– Мы только начали. Что-то успели даже сделать. Кому-то даже успели помочь. А потом, когда у нас все произошло… ну, когда все случилось, я понял, что грош мне цена, если я эту историю не продолжу. Если вот в этом моменте закончу существование фонда. Я решил продолжать один.
– Это очень трудно?
– Одному – почти невозможно. Со временем стали появляться вокруг люди, которые были готовы помочь: приходили, уходили. Потом мне вдруг повезло: пришла Алена Мешкова и ее команда. И у фонда случился перезапуск. То, что сделала Алена, я бы не смог никогда.
– Что вы имеете в виду?
– Понимаете, благотворительность – это не только про сочувствие. Это менеджмент. Из меня менеджер – нулевой. Команда, которая пришла в фонд, принципиально пересмотрела все прошлые позиции и предложила план развития. А я сидел, открыв рот, и понимал, что это какая-то фантастика, – что они предлагают. И что, скорее всего, это в фонде работать не будет. А оно вдруг заработало. И пошло такими темпами, что я теперь уже не очень понимаю, почему это называется фондом Константина Хабенского.

– Сколько фонд собирает сегодня?
– Больше 250 миллионов рублей в год. В этом году у нас около семисот подопечных.
– В отчетах фонда есть фраза о том, что вы помогли шести тысячам семей. Не детей, семей. О чем это?
– Это о том, что когда в семье случается такое несчастье – болезнь, то помощь нужна и ребенку, который заболел, и – едва ли не в большей степени – тем, кто с ним рядом. И нужна железная уверенность, что тебя не бросят.
Знаете, я запомнил одного парня из Запорожья, который приехал к нам с полуторагодовалой дочкой. Он всю жизнь работал ментом. У него взгляд был такой непробиваемый: уличный, натертый. Мы с ним сидели, я ему объяснял, что нужно сделать, какие бумажки заполнить, куда им с женой пойти после того, как они в отделение заселятся, а он вдруг говорит: «Костя, я всю жизнь привык людей подозревать. Когда ехал сюда, меня спросили: кто тебе деньги даст? Я ответил: Фонд Хабенского обещал. Ну и все такие: ага, сейчас, конечно, ха-ха-ха». А потом он вдруг говорит: «Я не верил людям. А вы это изменили».
– Что вы ответили?
– Я не знал, что ему ответить. Я его похлопал – он такой огромный амбал – по плечу: «Всё, лечитесь, держитесь, не унывайте. Я побежал, у меня дела». Но я тогда подумал о том, что, может быть, фонд нужен для такой элементарной вещи, как вера человека в людей.
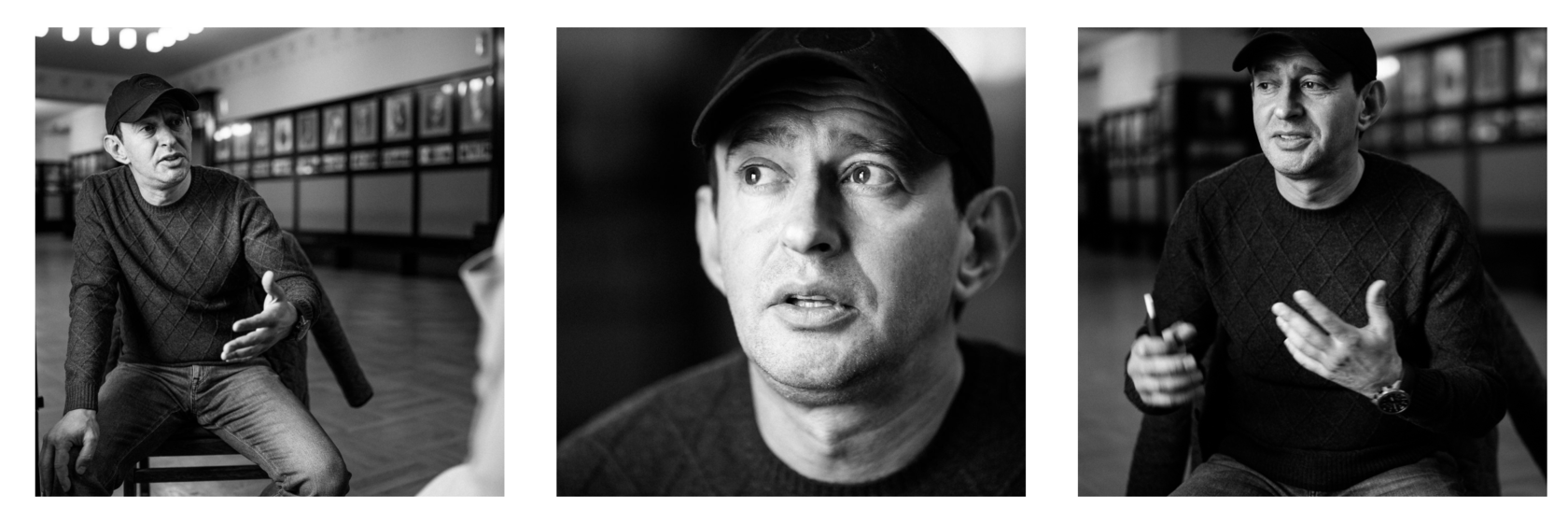
– Вы помните первого ребенка, которому помог фонд и который поправился?
– Нет. Я не помню детей, если честно. Я помню родителей. Точнее, их глаза. Там очень высокая концентрация боли и страха. У детей совсем не так. У детей нет страха смерти практически: они не так связаны какими-то материальными якорями, долгоиграющими планами и обязательствами перед близкими. Иногда я думаю, что, из-за отсутствия страха, опухоли в голове – это один из самых сложных и тяжких онкологических диагнозов – у детей излечиваются намного чаще и лучше, чем у взрослых. У меня нет этому подтверждений никаких, наука еще, слава Богу, не рассказала нам молекулярные схемы страха, любви и ненависти, что-то еще все-таки – остается тайной.
Но если про страх – это мои домыслы, то в том, что любовь и возможность сохранить привычный ритм жизни – это важная составляющая лечения, я уверен. А значит – важная задача фонда. Это к вопросу о шести тысячах семей, которым помогает фонд. Я попробую объяснить: у нас есть прекрасные сумасшедшие родители, которые, узнав о болезни, не только не меняют график ребенка, наоборот – делают все возможное, чтобы оставить все секции и кружки на своих местах.
У нас есть родители, которые, несмотря на болезнь, мчатся с ребенком на конкурсы и соревнования (как это было в здоровой жизни), и наша задача – сделать все, чтобы они своего энтузиазма и своих сил не растеряли, просто корректировать: ребята, ваш ребенок принимает кое-какие препараты, которые сказываются на длине ежедневного забега, поэтому вы чуть-чуть поберегите его. Но не останавливайтесь!
У нас есть 11-летний парень, выигравший олимпиаду во время лечения, есть девчонка, которая до болезни боксом занималась, танцами и музыкой, сейчас, уже после терапии, вернулась в бокс. А с танцами пока придется подождать: там крутиться, вертеться надо, ей тяжеловато еще.
Есть у нас парнишка, который загремел в больницу почти выпускником и потерял из-за болезни зрение. Но родители сказали: «Никаких соплей», наняли репетитора, и он сдал ЕГЭ, поступил в универ, ходит и учится. Так вот, чтобы у всех этих семей были силы поддерживать своих детей, им самим нужна поддержка, плечо. Мы стараемся этим плечом быть. В любой ситуации. Мы должны объяснить, что происходит, предложить помощь. И никогда не судить. Даже если нам кажется, что родители поступают вопреки нашим рекомендациям и даже здравому смыслу.
– Вы их не останавливаете?
– Мне не надо рассказывать, почему, когда человек попадает в беду, его близкие хотят использовать все мыслимые и немыслимые варианты для того, чтобы справиться с болезнью. Бывает, даже отказываются от классического лечения.
– И вы молчите?
– Я не сужу. Я говорю: «Вы вправе сделать все, но мы вам хотим предложить и рекомендуем сделать сюда два шажочка, потом направо два шажочка. Вот вам рука, пойдемте. Устанете – отдохните. Потом по коридору десять шажочков. Там будет стульчик. Вы сядете, и мы скажем, куда идти дальше». Это тоже очень важная задача – подхватить ошеломленного болезнью человека. Потому что в этом состоянии – я это знаю – он растерян, беспомощен и очень уязвим.
– Вы простили журналистам то, как они десять лет назад воспользовались вашей беспомощностью в момент болезни Насти?
– Нет. Но это и не журналисты, это папарацци. В какой-то момент в стране произошло повальное превращение журналистов в папарацци, безнравственность которых подогревалась изданиями: чем более мерзкий снимок ты принесешь, тем больше мы тебе заплатим.
Вначале эти люди выходили на боевые задания против уже болеющего Александра Гавриловича [Абдулова]. Я своими глазами видел, как один из главных подонков страны в упор снимал день рождения Абдулова, который – и это вполне нормально – хотел побыть с друзьями. Александр Гаврилович, пьяненький, и так, и эдак: «Уйдите, не надо, уйдите». Но нет. Подонок продолжал лезть к нему со своим аппаратом. Вышли покурить, и этот – бросился со своей камерой, тыкая ею в лицо. Вот тогда ему квадрат этого фотоаппарата и оставили на физиономии. Это было по делу.
После этого случая они стали ходить вдвоем: один близко подходит, типа камикадзе, а другой со стороны с расстояния двадцать метров на длинном объективе снимает побои. Я с ними сталкивался. Это люди, которым нравится играть в войнушку и которые не понимают, что за этой их «войнушкой» стоит что-то большее: чья-то честь, боль, просто личная жизнь, которая их не касается. Но для них же не существует людей, не готовых видеть на страницах газет свои фотографии или фотографии своих родных. Вот они и щелкают, щелкают. Лезут, подкупают, внедряются.
Мне не сложно будет в какой-то момент, если я кого-то из них увижу рядом и узнаю, дать в рожу со всей силы. Просто отведу подальше от камер.
Но это не журналисты, повторюсь. С журналистами как раз проблема. Их мало. Поэтому интервью так мало. Вот и лезут отовсюду перепечатанные, сфабрикованные из каких-то ошметков, обрывков разного времени ответы на вопросы, которые никто не задавал. Но все это пользуется популярностью: люди читают, фантазируют, придумывают какие-то совсем фантастические истории. Чушь, конечно.
А настоящих, талантливых журналистов – мало. Таких, знаете, чтобы ты вдруг читал и поражался: вот это полет мысли, вот это мастерство, я бы сам не додумался.
– Люди, столкнувшиеся с онкологической болезнью, трудной и тяжелой, иногда задаются вопросом: «За что?» А иногда этот вопрос переформулируют в «Для чего?». Как было у вас?
– У меня было совсем по-другому. Я не болел. Я был рядом. Это разные вещи. У меня тоже были свои мысли, свои какие-то их трансформации. Но это – совершенно не то, это не сравнимо с переживаниями и мыслями того, кто находится в эпицентре болезни.
– Вы сами говорите, что находящиеся рядом с тем, кто болеет – едва ли не более беспомощны: ты не знаешь, что сделать, и ты боишься. Даже потом, в другой истории, с другим человеком – боишься. Вы научились справляться с этим страхом?
– Я понимаю, о чем вы. Да. Этот страх, наверное, когда-то пройдет. Не совсем точно назвать его страхом за близких, но это страх того, что все, ты попал в капкан, и этот капкан никогда не отцепить, это навсегда к тебе прицепилось и уже не отвяжется. Отсюда все это идет: и что заболевания передаются через поколения, и онкология передастся, и что-то ты такое в жизни сделал не так или твои родители сделали что-то – и вот тебе кара, и платит кто-то, кто тебе дорог.
Из этих порождений страха вырастают потом муки родителей: «Ах, мы провели так по-дурацки свою жизнь, наш ребенок теперь мучается». Так вот, этот страх надо победить в себе. Ничего не прицепляется навсегда. Отцепится. И то, что неизлечимо, и то, что это за какие-то деяния или по наследству – нет, неправда. Это заблуждения.
И я, кстати, считаю одной из важных задач фонда помочь вот этим вот шести тысячам семей победить страх: не хоронить ребенка, не относиться к нему пожизненно как к больному, не хоронить себя, свою семью, не делать из боли семейный склеп. Жить. Научиться закрывать за собой дверь в больницу – это, кстати, очень трудно. Иногда это даже труднее, чем победить болезнь.

– Почему?
– Потому что, пока ты болеешь, время бежит вперед. В ту точку, из которой ты ушел в больницу, вернуться невозможно. Ты возвращаешься в социум и справляешься со всем, что ты пережил, под косыми взглядами друзей, знакомых и коллег по работе, которые с самого начала на тебя смотрят с настроением «ах, у вас горе, и мы уже заранее по вам всем скорбим». Это нужно пройти и пережить.
Хотя, если честно, любой нормальный человек с этим в одиночку не сможет справиться. Если мы имеем в виду – справиться до конца. Поэтому во всем мире существуют специальные методики реабилитации, которая начинается уже в тот момент, когда ребенок только-только попадает в больницу. Это все давно придумано, это работает, и это реально необходимо. Реабилитация сейчас – для меня, пожалуй, главная программа фонда.
– За десять лет, что существует в России системная благотворительность, фонды подросли и стали такими мощными, что иногда кажется, что некоммерческий сектор – это если и не параллельный Минздрав, то уж точно – костыль для существующей системы здравоохранения. А вы как себе представляете эти отношения?
– Я бы не назвал нас костылем. Конечно, идея построить – финансово и организационно – систему альтернативной помощи так, чтобы при любой смене власти она оставалась незыблемой, очень заманчива. Но я считаю ее слабореализуемой и неперспективной. Если сравнивать фонды и систему, то в каких-то случаях мы очевидно более мобильны: мы можем подхватить человека в сложной ситуации и сделать для него что-то быстрее, чем большая тяжелая машина, которая тоже сделает это в результате, но, возможно, тогда, когда уже ничего не будет нужно. Из этого я делаю вывод: значит, мы с системой должны работать в сцепке.
– В сцепке?
– Да. Мы должны друг друга страховать и использовать сильные стороны – наши и системы здравоохранения – чтобы помогать людям. По-моему, разумно.
– Насколько необходимость не подвести фонд связывает вас в ваших высказываниях и поступках?
– У меня есть иллюзия того, что я свободный человек. Но это моя иллюзия. Я понимаю, что так или иначе какие-то вещи мне правильнее просто не комментировать. Просто промолчать и сказать: «Я политику не комментирую». Думать я могу при этом все что угодно. Но я всегда держу в голове, что я отвечаю как за двадцать человек, которые работают в фонде, так и за тысячи семей, которые находятся под опекой. И если вдруг что-то случится, – а найти, как мы видим по последним нашим судебным разбирательствам, можно что угодно у кого угодно, – то кто будет вместо меня? Поэтому да, я стараюсь иногда держаться в стороне.
– Это позволяет вам потом пользоваться своей репутацией, своей узнаваемостью?
– Такого, чтобы я ногой открывал двери в какие-то кабинеты и, со своим лицом наперевес, выкручивал людям, которые сидят в креслах в этих кабинетах, руки, для того, чтобы фонд расцветал и шел дальше – нет, такого нет, я никому ничего не выкручиваю. Но в каких-то местах я принципиально стою на своей позиции. И в каких-то моментах я встаю и выступаю, потому что молчать нельзя и мне надо становиться тем, кто произнесет что-то вслух, прямо. Так было в истории с реанимацией.
– Когда вы встали на Прямой линии с Путиным, чтобы задать вопрос про реанимацию, мне стало за вас страшно, если честно.
– Так получилось, что мне доверили этот вопрос задавать. Это не было впрямую моим криком или волей нашего фонда. Это был общий крик, который мы обсудили. И меня от лица всех тех, кто боролся за возможность открыть двери в реанимации, делегировали на встречу с президентом, где я должен был задать вопрос. Было тяжело.
– Почему?
– Еще раз говорю, этот вопрос был сформулирован несколькими фондами, мне поручили его задать. Я волновался, потому что я не во всех вопросах одинаково хорошо подкован. По-моему, это нормально: если я буду вообще разбираться во всех медицинских прибамбасах, я сойду с ума. Но я достаточное количество времени провел в больнице, больницах, чтобы понимать суть вопроса, чтобы встать на защиту права родных быть рядом с тем, кто находится в реанимации. Не только в Москве или Питере. Везде, по всей стране. Я достаточно понимаю про то, что значит тепло родного человека, когда ты в беде. И лишать людей, и без того страдающих, еще и этой поддержки нельзя. Тем более на дурацком основании типа, знаете, у вас грязные ногти, мы не можем вас пустить.
– Как часто вас специально просят промолчать, давая понять, что за вами – фонд и ответственность?
– В этом смысле я неудобный товарищ. Я думаю, что так действовать ни у кого не получится. Пока ни одного случая, когда мне бы что-то приказывали – молчать или говорить – угрожая последствиями для фонда, не было. Я слышал, как это было у других, у меня – не было.
– Чем вы объясняете свое молчание по поводу дела Серебренникова? Если это не страх за фонд, может быть, – какие-то внутренние театральные обязательства.
– А чего вы от меня ждете?

Я вижу, как Женя Миронов, Чулпан Хаматова и другие ребята беспокоятся, приходят на заседания в надежде на то, что их физиономии что-то решат. Это, конечно, поддержка Кириллу Семеновичу и команде, которая оказалась в этой ситуации, но я считаю, что это никак не решение вопроса.
– А что тогда – решение?
– Не знаю. Как не знаю и не понимаю, почему тот, по сути, досадный пустяк, халатность, допущенная в «Седьмой студии», раздувается и раскручивается так, до таких масштабов, что я даже не знаю, чем все это может закончиться. Я очень надеюсь, что это закончится нормально. И эта история станет просто большим жизненным опытом для всех, не более.
Я очень сочувствую Кириллу Семеновичу и хорошо понимаю ситуацию – в гораздо более мелком масштабе я обжегся на истории, связанной с финансовым ведением театрального проекта, во время «Поколения Маугли», я знаю, о чем говорю. Я вижу, как тяжело театру прекрасному, «Гоголь-центру», без режиссера. Хотя ребята держатся и вот эта энергетика, она в театре ощущается: в этом театре одинаково круто и одинаково хочется существовать и на сцене, и в зрительном зале, так там намолено, накатано потоками любви. Всему этому, конечно, Кирилла Семеновича не хватает. Но я не знаю, что я еще могу, кроме вот этих вот слов поддержки?
Я не верю в то, что мое физическое присутствие в зале суда заставит судью принять какое-то другое решение и мы вдруг услышим: «Всё, отпускаем, отпускаем прямо сейчас». Не будет такого. Через это мы тоже проходили, когда [в 2011 году] Чулпан судилась на рубль [с фондом «Федерация»], это был принципиальный рубль, репутационный. Мы все тогда приехали в суд: и я, и Кирилл, кстати, Семенович, и Женя Миронов, много известных людей. Но это ничего не изменило, суд был проигран. Не работает это так, не работает.
– А как тогда работает?
– Возможно, работает, если ты приходишь один на один. И, если человек нормальный, вы с ним договариваетесь, а потом он исполняет свое обещание, а ты – исполняешь свое обещание.
– Вы пробовали куда-то ходить, чтобы договориться?
– Кто-то пробовал, кто-то нет. Кто-то приходит в суд что-то демонстрировать, кто-то нет.
Я не демонстрирую свое отношение. Это не значит, что мне все равно. Мне – не все равно. Но я не знаю, чем помочь, кроме того, чтобы быть поручителем. Не знаю. Уже больше года все это длится…

– Боитесь ли вы, что, если поступите одним образом – вас осудят одни, другим – другие?
– Нет. Знаете, обычно люди боятся совсем не того, что действительно страшно. Я не боюсь каких-то мнений, обсуждений. Я независим совершенно от социальных сетей, мне это не страшно и неинтересно. Я только один раз за последнее время поинтересовался, что пишут в социальных сетях.
– По поводу чего?
– По поводу «Собибора». У нас с товарищами спор разгорелся, по поводу того, что будет молодежь черпать из просмотра этого фильма, и поймут ли они вот эти вот наши мучения. И, когда меня взбесили утверждения о том, что фильм неинтересен молодым и это совсем мимо, я попросил, чтобы мне сделали подборку, все прочел и убедился, что был прав.
– В чем правы?
– В том, что зрители не дураки: молодые или немолодые, те, которые с попкорном приходят на триллеры и комедии, – они не дураки. Вот в чем дело. Они могут смотреть все что угодно, мы можем травить их любой вкусовщиной, но они чувствующие, они умеют отличить настоящее от ненастоящего. И они не дураки. Это очень важно.
Хотя, честно, я не собирался из этой картины делать какой-то там ликбез, не собирался демонстрировать никакой новый взгляд. Я просто хотел чуть взбудоражить эмоциональную составляющую зрителя, которая должна, конечно, быть подкреплена какими-то знаниями: кто захочет – пойдет и выяснит, кто не захочет – останется с эмоциональным ощущением. Кому страшно с этим ощущением жить, тут же его загасит и что-нибудь придумает себе другое.
– Насколько для вас лично, еврея по национальности, была важна именно национальная составляющая фильма как личная история?
– Знаете, мой друг Саша Цыпкин, с которым мы много работаем, как-то талантливо и просто сформулировал про евреев: есть неправильные – те, у которых еврей папа, и есть правильные – у которых еврейка мама. Первые в еврейском обществе евреями не считаются, а у нас в стране – как раз оказываются евреями. Вторые – у нас не евреи, а там – наоборот. Я отношусь к первым: я вроде и русский, а по папе – еврей. У меня не было национального воспитания в детстве, в том смысле, что я принадлежу к еврейской нации.
У нас семья интернациональная: мама русская, смесь Мордовии и чего-то еще, папа – еврей, есть еще польские корни плюс татары, прошедшие через всю семейную историю неоднократно туда-сюда. И я понимаю, что я имею к этой нации ровно такое отношение, чтобы иметь право говорить о ней, шутить, показывать любые, кроме религиозных, стороны. Но к «Собибору», если вы об этом, это никак не относится.
– То есть тема Холокоста для вас – не имеет важного личного значения?
– Мы про боль говорим? Для меня нет большой разницы, когда я или мне рассказывают про геноцид армян или про Холокост, про то, как турки гнали армянский народ, или про то, как нацисты выжигали евреев. У боли, страха, обиды непрожитой жизни нет национального признака.

– Но в связи с выдвижением «Собибора» на «Оскар» раздается предостаточно голосов, уверяющих, что это все не из-за художественных достоинств картины, а благодаря поднятой теме.
– Честно, я не знаю, почему выдвинули. Вполне возможно, что и по национальному признаку тоже. Я это никак не комментирую. Да и мне-то – какая разница? Я понимаю, что в моей жизни второго такого случая – попасть в оскаровский список – может и не произойти, значит, надо пользоваться шансом и отжимать все на полную катушку. Тем более что про «Оскар» в нашем цехе шутят все: оскаровский план, оскаровская шутка, оскаровский сценарий и так далее.
Короче, мне просто чертовски приятно, что так получилось. Хотя во время съемок и монтажа, и дальнейшей фантазии уже на монтажном столе, связанной с музыкой и звуками, с сюжетом – у меня не было ни одной мысли в направлении «Оскара».
– О чем думали?
– Я для себя ценность того или иного фильма определяю просто: может ли он помочь, например, дяде Васе и тете Ире изменить вектор своего восприятия мира? Не намного, на чуть-чуть совсем. Получится ли у них, выйдя вечером из кинотеатра, подумать про себя: «А вот завтра я поступлю не так, как герой, я вот этой ошибки не повторю». Я как-то наивно верю в то, что кино должно менять. Ну, может, не жизнь, но вектор восприятия жизни. Что касается фестивалей, то там какие-то другие задачи, для меня трудно формулируемые. Но этим вопросом я никогда всерьез и не задавался.
– В юности вы собирались строить самолеты, а не снимать фильмы и сниматься в них.
– Если быть точным, я должен был делать мозги для самолетов, которые бы летали.
– Сколько раз в жизни вы пожалели о том, что так не вышло?
– Ой, что вы. Никогда. Слава Богу, что всего этого у меня не получилось. Хотя это – одно из первых моих самостоятельных решений в жизни: я сказал, что не хочу больше учиться в школе. Ушел после восьмого класса и поступил в техникум авиационного приборостроения и автоматики, но его тоже бросил. Понял вдруг, что ни черта в этом не понимаю. Можете себе представить, какие самолеты бы я понастроил?
– Летать боитесь?
– По-разному. Это, скажем так, накопительная система, которую я не могу контролировать: зависит от усталости, от количества полетов, от разных каких-то факторов. Но на самом деле это все неважно. Просто часто мы боимся совсем не того, что оказывается действительно страшным.